О китайской религии вообще и светских религиях Китая в частности
Вступительные замечания
Я начинаю публикацию серии фрагментов неопубликованной книги о так называемых светских или синкретических религий Китая. Помещенный ниже текст – часть вступительной статьи, посвященная традиционным китайским религиям.
В.М.
Французский философ Эмиль Сьоран заметил, что цивилизации развиваются благодаря рискованным пробам и дерзким начинаниям. Подмечено верно. Как узнать собственные возможности и границы, не давая свободы мысли и воображению? Но хотя цивилизации идут вперед благодаря экспериментам, своей устойчивостью и долголетием они обязаны целостности и полноте их мировоззренческих оснований. Речь идет не о подчинении жизни одной идее, одному отвлеченному началу, но о гармоническом соединении разных сторон человеческой практики, «цветущей сложности» родовой жизни, в которой находится место для очень разных, даже взаимно исключающих проявлений человеческого духа. С этой точки зрения китайскую цивилизацию можно считать одной из самых совершенных в мировой истории (что и подтверждается ее необыкновенной живучестью). Ибо главным достоинством китайской традиции является выработанное на протяжении нескольких тысячелетий китайской истории органическое единство самых разных сторон знания и деятельности людей. Достаточно сказать, что для китайцев знание, здоровье, богатство, власть и моральный авторитет нераздельны. Другими словами, добродетельный человек заслуженно добивается жизненного успеха, а его мудрость в том и состоит, что он бережет свое здоровье и имеет хорошую семью.
Каким образом возможно такое счастливое – а на взгляд европейцев, может быть, скучное – совпадение? Его философская подоплека выражена в основополагающей формуле китайского миросозерцания, которая гласит, что Небо и Человек должна находится в «согласном единстве». Это означает, что отношения между людьми и человеческая практика в целом наделяются китайцами бытийственной значимостью, сами по себе представляют высшую реальность мироздания. Китайцев мало интересовали вопросы о том, что такое мир и как человек может его познать. Им было важно знать, а еще важнее осуществить на практике истину человеческих взаимоотношений. Им был интересен не столько человек как таковой, сколько то, как человек относится к другим людям и что такое человеческая коммуникация, совместная жизнь человеческого рода. Отвечая на этот вопрос, уже древние китайцы выработали три главных тезиса о природе человека и его месте в мире:
Во-первых, они установили, что в мире существует всеобщий порядок, пронизывающий как природный мир, так и человеческое общество. Поскольку этот порядок предполагает всеобщую соотнесенность всех вещей и явлений, он имеет моральную природу. Следовательно, изучение человеческой истории и человеческих отношений позволит определить законы всего космоса. Во-вторых, между людьми и природным миром имеется непосредственная, живая связь, уходящая корнями во врожденные жизненные рефлексы, бессознательные синтезы телесной жизни, спонтанное «воздействие-отклик» (гань-ин), и это «сердечное общение» предшествует нашей рефлексии и созданным ею понятиям. Всякий же спор и тем более открытое противостояние, по китайским понятиям, бесплодны и в действительности только затемняют чистоту и непосредственность душевной близости людей.
В-третьих, вместо того, чтобы погрязать в пустых рассуждениях о понятиях, человек обязан посвящать себя личному совершенствованию, чтобы вернуться к первозданной чистоте своего чувствующего знания. Смысл этого совершенствования заключается, собственно, в повышении своей духовной чувствительности, что означает, по сути дела, восстановление в себе полноты жизненных свойств, высвобождение первозданной мощи жизни. Такое нравственное усилие как раз и обеспечивает подвижнику моральный авторитет, дает ему силу неотразимого нравственного воздействия на общество, а вместе с ней власть и преуспеяние. Оно является условием успеха именно потому, что дает способность всегда успевать, предвосхищать события и притом достигать этого посредством предупредительного, в высшей степени воспитанного, любезного поведения.

Такова в самых общих чертах мировоззренческая позиция главенствующего направления китайской мысли – конфуцианства. Ее классическое выражение мы встречаем уже в наследии первого философа Китая – Конфуция, который, кажется, впервые в истории человечества составил краткую духовную автобиографию. В ней говорится (в несколько вольном изложении) примерно следующее:
В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет я имел прочную опору.
В 40 лет я не ведал сомнений.
В 50 лет я знал волю Неба.
В 60 лет я настроил свой слух (мог понимать людей).
А теперь в свои 70 лет я следую велениям сердца, не преступая правил.
Примечателен в этой исповеди отсчет своего духовного развития по равным периодам – десятилетиям – физической жизни. Это характерная черта конфуцианской традиции, где главным критерием нравственной, духовной зрелости выступает непосредственно биологический возраст, так что чем дольше живет человек, тем большего уважения он заслуживает. Для китайцев жизнь драгоценна сама по себе, и мудрость заключается как раз в том, чтобы прожить как можно дольше. Китайцы исповедуют, можно сказать, религию жизни.
Еще один важный пункт Конфуциева наследия относится к заявлению Конфуция о том, что он при всей его любви к учению не ценит многознайство само по себе, но приобретенное им знание «пронизано одним». Сам Конфуций не стал разъяснять, что он имел в виду под этим «одним». Но мы можем предположить, что речь идет о том единстве вселенской гармонии, которое уравнивает несопоставимые величины; о внутренней целостности миропонимания, которая к тому же относится и к побудительным мотивам, и к цели каждого действия, составляет безусловное оправдание каждого морального усилия. Это единство делает возможным неисчерпаемое разнообразие жизни, и оно же составляет сокровенную преемственность различных моментов существования. Это единство нельзя «знать», можно только быть верным ему, верить ему, черпая в этой вере несокрушимую уверенность в себе и безмятежный покой сердца. В этом пункте моральный идеал конфуцианства уже смыкался с религиознымы ценностями.
Другое важное течение традиционной китайской мысли – даосизм – разделял мировоззренческие основы конфуцианства, но ставил акцент на природных основаниях нравственного идеала, мудрости и благе жизни самой по себе, вне условностей морали и культуры. Жизненная свобода, утверждали даосы, сама все расставит по местам и сделает каждого счастливым, не нужно сковывать жизнь какими бы то ни было отвлеченными нормами.
Со временем в Китай пришел и буддизм, который поместил традиционную систему мысли в новый познавательный план, объявив все понятия и представления иллюзией. Традиционная конфигурация китайского мировоззрения при этом не претерпела изменений. Более того, она и чужеземный буддизм заставила трансформироваться по ее образу и подобию.
В китайской традиции, как можно видеть, Небесное и Человеческое, субъективное и объективное, трансцендентное и имманентное не стали отдельными, противостоящими друг другу сущностями. Она не содержала в себе условий для появления философского монизма или дуализма, Как все люди, китайцы не имеют точки опоры, чтобы перевернуть мир. Но, в отличие от европейцев, они и не хотят искать ее. Другими словами, они всегда искали истину не в умозрении, а непосредственно в жизненном опыте. Их идеал не подчинять природу, но и, разумеется, не подчиняться ей, а жить с природой наравне. Оторванность человека от Неба (выражающееся, например, в безнравственных поступках) они объясняли только ограниченностью знания и умственной ленью, одним словом – естественным помутнением разума. Однако тот, кто отрицал ценность духовного совершенствования, был, по китайским понятиям, недостоин звания человека, и с ним дозволялось расправиться самым решительным способом. Назначение человека – поддерживать и совершенствовать мировую гармонию, воплощенную во врожденных ему почтении к старшим, смирении и уважении к другим людям, также в его естественной вежливости. Эта спонтанная вежливость находит утонченное выражение в легко усваиваемых детьми (а потому в глазах китайцев совершенно естественных) любезных, обходительных речах и поступках, всевозможных обрядах и церемониях. Внешние формы благочестия, согласно нормам китайской традиции, должны учить духовной просветленности, сознанию внутренней причастности к всеобщему пути мироздания – Дао. Китайский мудрец, как и греческий философ, постигает секрет благой жизни и в самом себе имеет несокрушимую опору. Но он не нуждается в интеллектуальных оправданиях этой опоры. Он полностью доверяет жизни.
Как ни стройна, ни убедительна в своей гармонической завершенности жизненная философия китайцев она, конечно, не была свободна от ряда внутренних противоречий и недоразумений. Не так-то легко концептуально обосновать совпадение духовной просветленности и чистой естественности жизни. Эта мировоззренческая посылка в равной мере питала проповедь постепенного и притом книжного обучения (что было, заметим попутно, необходимым условием воспроизводства правящей элиты в бюрократической империи) и идею мгновенного и полного прозрения истины помимо книжной учености. Какой путь предпочтительнее и как они совмещаются? Ученые мужи Китая спорили на эту тему на протяжении многих столетий. Не совсем понятным было и для них и соотношение религии и морали. Нужна ли мудрецу помощь богов и сострадающих бодхисатв для достижения духовного освобождения или же нравственное усилие, безупречность морального сознания сами по себе являются абсолютной ценностью? Лишь строгие конфуцианские ученые, сравнительно немногочисленные, твердо держались второй точки зрения.
Важным следствием отмеченных выше мировоззренческих установок цивилизации Китая стала ярко выраженная светская, мирская ориентация китайской мысли. С древности китайские мыслители признавали, что просветленная жизнь не отличается от жизни в миру и даже управленческого активизма. Высшей фазой духовного совершенства в Китае стало именно погружение в повседневность, и это обстоятельство породило у многих европейцев впечатление, что китайцы – народ сугубо материалистичный, приземленный, черство-практичный. Жизненный идеал китайцев – это действительно, как гласит заголовок классического конфуцианского трактата, «центрированность в постоянстве» (понимая под постоянством все вечносущее, возобновляемое в человеческой жизни, в сущности – ту же повседневность). Но если быть точным, речь здесь идет о том, что «обыденнее обычного», «проще простого» – о чистой имманентности жизни, предваряющей все понятия и образы. В этой «таковости» существования знание оказывается слитым с чистым восприятием.
Постепенное усложнение общественной жизни в средневековом Китае вело к радикализации обеих точек зрения. Чем более совершенной и отлаженной становилась машина бюрократического образования, а церемонии и обряды – пышными и сложными, тем громче звучали голоса, протестовавшие против чрезмерной формализации поведения и призывавшие к самостоятельному и даже мгновенному обретению истины. А в результате получалось так, что мыслители, пытавшиеся восстановить традиционное миропонимание в его первозданной чистоте и цельности, все чаще выглядели нонконформистами и смутьянами. То же относится и к религиозной жизни: протест против обрядовых формальностей порой превращал не в меру энергичного проповедника в еретика. В эпоху позднего средневековья эти противоречия вырвались на поверхность общественной жизни. Однако и на этот раз сказалась общая тенденция китайской мысли искать реальность в чистой имманентности жизни. Традиционные идеи и культурные формы отвергались не во имя каких-то «чистых», трансцендентных идей и форм, но ради переживания жизни во всей ее полноте здесь и сейчас и даже, точнее, открытия в этом «здесь и сейчас» огненного столпа первозданной и единственно спасительной жизненной мощи.
В эту эпоху в Китае возникает особая категория религий, которые можно назвать, отчасти за неимением лучшего определения, прежде всего религиями синкретическими, поскольку они были ориентированы на совмещение традиционных «трех учений» китайцев — конфуцианства, буддизма и даосизма – в рамках единого или, как говорили в Китае, «всеобъемлющего», «законченного» учения (юань цзяо). Это определение, конечно, остается весьма условным, ведь не так-то легко отличить учение, претендующее на охват и включение в себя всех прочих учений, от этих самых «прочих» учений. С этой ориентацией была связана и другая важная особенность религий нового типа: их доктрина объединяла религиозные и этические ценности, снимала противопоставление монахов и мирян и объявляла критерием жизненного успеха преуспеяние в мирской жизни.
Правда, в силу целого ряда причин категория «синкретических религий» не получила в Китае официального признания. Оттого же сведения о доктринах и деятельности синкретических религий крайне скудны и, как правило, тенденциозны. Отсутствие в Китае какого-либо нейтрального понятия для синкретических религий создает немалые трудности для их изучения. В официальной литературе чаще всего говорится о «нечестивых», «порочных учениях» (се цзяо), «крайних учениях» (идуань цзяо) или «тайных учениях» (ми цзяо). Все эти термины носят откровенно политический характер. В ХХ в. в китайской, а отчасти и западной литературе. широко употреблялся термин «тайные религии» (мими цзунцзяо). Однако ни в доктрине этих религий, проповедовавших «всеобщую истину», ни тем более в их деятельности по сути не было ничего тайного, не говоря уже о нарочитой таинственности. Синкретические секты нужно отличать от собственно тайных обществ, для которых нарочито усложненные и таинственные ритуалы были главной санкцией их существования, действительные же цели таких организаций относились к области общественной жизни и политики. Напротив, в сектах первостепенное значение придавалось именно вере. Обряд вступления в секту обычно ограничивался внесением вновь обращенным денежного взноса и сожжением бумажки с его именем для того, чтобы оно было занесено в «небесный реестр» секты; вступавший клялся в преданности своему духовному наставнику и единоверцам и давал обещание не разглашать священные формулы, которых ему открывали при вступлении. В этих формулах, впрочем, не было решительно ничего особенного или таинственного. Каждый член секты имел право в любой момент выйти из нее. Различие между сектами и тайными обществами становится особенно очевидным в свете их исторической эволюции: в XX в. былые секты стали претендовать на роль национальной и даже мировой религии, а тайные общества выродились в гангстерские организации.
В последние десятилетия в Гонконге и на Тайване вошел в обиход уже давно принятый в Японии термин «новые религии» (синь цзунцзяо, синьлай цзяо, синьсин цзяо) — не самый, конечно, удачный, но, по крайней мере, идеологически нейтральный. Данный термин приемлем еще и потому, что несет в себе идею религиозного обновления столь характерную для синкретических религий.
Критерии различения синкретических или светских религий остаются предметом острых дискуссий среди специалистов. Надо иметь в виду, что предрасположенность к синкретизму, а также соединению религии и морали всегда присутствовала в идеологической традиции Китая. С древности китайская мысль была охвачена стремлением к выработке «всеобщей истины» всех учений мира. Влиятельнейшие философы древнего Китая охотно признавали, что истина не рождается в споре и не задана догматически, но отчасти присутствует в каждом суждении и даже каждом искреннем чувстве; мудрый же потому и мудр, что.способен постичь сокровенную, недоступную рефлексии «единую основу» или, можно сказать, общую посылку всех мнений. Вместе с тем китайская мысль, как уже говорилось, всегда отличалась ориентацией на светскую жизнь и общественную деятельность человека. Она интересуется превыше всего априорными побудительными мотивами мнений и поступков, «безмолвным императивом» жизни, каковой и обозначается главным понятием китайской традиции – понятием «таковости», того что «существует само по себе» (цзы жань). Невозможно оспорить эту мощь жизни и тем более противиться ей. Эта оппозиция предвечного, «еще не понятого» и объективированного, «уже понятого» в нашем опыте со временем приняла в китайской мысли вид противостояния между «внутренним постижением» и его внешним, словесным, вторичным оформлением, которое изменятся в зависимости от обстоятельств. Внутреннему измерению истины, разумеется, отдавался безусловный приоритет. Так, согласно этой логике, даосские мудрецы выражали «сокровенный смысл» учения Конфуция, о котором молчал величайший учитель Китая. Однако же Конфуций был выше даосов именно тем, что молчал о правде мира, ибо этот «Учитель всех времен» воплотил правду в самой своей жизни.
Итак, чистая имманентность жизни не может быть объективирована и переведена в предметное знание. Но по той же причине она и не составляет некоего особого «духовного знания». Она есть именно средоточие, смычка человеческого и небесного, духовного и материального, мирского и религиозного.
С распространением в Китае буддизма, энергично проповедовавшего идеи двух уровней истины, – абсолютного и относительного – а также изменчивости внешних выражений истины и вместе с тем «недвойственности» прозрения и помрачения, система религиозного синкретизма в Китае приобрела законченный вид. Все китайские школы буддизма исповедовали идеал «всеобъемлющего постижения» (юань у), «всеобъемлющего учения» (юань цзяо), предположительно содержащего высший синтез всех заветов Будды. Эта претензия обосновывалась признанием относительности всякого суждения и, соответственно, абсолютной ценности молчания как неизъяснимой, но данной каждому с несомненной внутренней очевидностью правды «жизни как она есть». В конце концов утвердилось мнение, что буддизм и китайские учения взаимно выявляют их сокровенную сущность. В свете этого вывода истинным выразителем правды чужеземного святого оказывались именно китайские учителя и наоборот. Логическим исходом такого рода синкретической идеологии было утверждение о том, что истинный смысл «трех учений» Китая надлежит искать вне их конфессионального содержания. Такой вывод и стал отправной точкой собственно «синкретических религий». Но синкретизм последних, как можно видеть, имел уже иной характер. Его можно назвать пост-традиционным в том смысле, что в его основе лежит рефлексия о духовных основаах традиции.
В отличие от своего предшественника посттрадиционный синкретизм отрицал символическое измерение канонических основ традиции. Он заменил толкование безапелляционным утверждением. сводил смысл к идее, принципу, логическому тезису и, как следствие, догматически утверждал тождество понятий и вещей, закреплял за словами одно-единственное «правильное» значение. В этом смысле он целиком принадлежал области идеологии, идеологического истолкования мира. В нем таинство откровения уступило место секретности сообщения, обращение к духу канона — приверженности букве. В результате религиозные ценности в религиях нового типа оказались сведенными к практике по сути внерелигиозной — этике и особенно политике, причем сами эти религии в силу догматизма и узости исповедуемого ими буквалистского смысла приобрели догматический, сектантски-замкнутый характер. Здесь надо искать причину того, что светские, или синкретические, религии не смогли заменить собой религии традиционные или даже занять ведущие позиции в общей системе религий Китая.
Вследствие своего светского характера посттрадиционные религии уже в силу своего светского характера стали претендовать на роль alter ego государственной идеологии, и это обстоятельство стало причиной жестоких правительственных гонений на них. Как правило, вожди сектантских религий обычно присваивали себе императорский титул; а многие популярные секты старательно копировали государственную иерархию и даже систему ученых званий в китайской империи.
Если в Европе мы наблюдаем параллелизм трансцендентного идеала (в религиозном или умозрительном смысле) и общественного строя, отчего европейское общество выстраивало себя по образу и подобию церковных институтов, а со временем попросту заменило их собой, то для китайской цивилизации характерна, скорее, недвойственность чистой имманентности жизни и области людских мнений. Европа проецирует себя в рациональные формы и выстраивает себя по их образцу. Тело европейской цивилизации – тело ее разумности прежде всего – отслаивается эпохами ее истории. И за этим телом разума вечно следует его тень, т.е. все, что не вмещается в рамки рационального самооправдания, начиная с лабиринтов и химер средневековых соборов и кончая хватающей за горло «экзистенцией». В Китае дело обстоит иначе: там все начинается и кончается смутной цельностью хаоса или, что то же самое, с «тени», отблеска сокровенной реальности, т.е. декорума, церемонного устроения жизни, и все является только подобием иного и неведомого.
Двойственность общественного и культурного положения синкретических религий – они же религии посттрадиционные или светские – в позднем императорском Китае обусловила известную двусмысленность их идейного наследия, характера проповеди и самого статуса их приверженцев. Последние всегда занимали как бы промежуточное положение между монахами и мирянами — обычно они называли себя «монахами в миру» (дао минь). Они копировали — нередко с необыкновенной скрупулезностью — буддийские и даосские институты, обряды и пантеон божеств. Но в том-то и дело, что эта вполне традиционная и благопристойная оболочка оказывалась, в сущности, не более, чем маской совершенно особой, альтернативной доктрины. Еще и в наши дни в КНР время от времени появляются сообщения о «разоблачении» сектантских проповедников, выдающих себя за буддийских и даосских проповедников. Именно в этом смысле можно говорить о синкретических (посттрадиционных) религиях как религиях «тайных». Тем не менее, ни по существу своей доктрины — подлинно универсалистской, светской и обращенной ко всему человечеству, — ни по формам бытования в местном обществе новые религии нельзя считать тайными организациями в собственном смысле слова. Но нужно учитывать, что сама реальность имела в китайской традиционной мысли статус иллюзии, маски и притом достоверных именно в той мере, в какой они оказывались онтологически неизбежными. С этой точки зрения синкретические религии действительно были логическим завершением китайской традиции, и в силу своей «законченности» они превосходили и отрицали принципы этой традиции.
Насколько органичным было отмеченное сочетание синкретизма и альтернативности в доктринах синкретических сект — это вопрос для будущих исследователей. Пока мы можем только констатировать, что решительно все синкретические религии, появившиеся в Китае за последние столетия, включают в себе эти две родовые черты их традиционного фона. Пафос оппозиционности, альтернативности существующему строю находил свое самое простое и понятное народным массам выражение в буддийской эсхатологии — учении о скорой гибели мира и наступлении эры блаженства для немногих избранных, представленных последователями новой веры. Еще одна важная черта религиозных объединений нового типа — мессианизм, вера в сошествие на Землю спасителя человечества, который, конечно же, принял облик вождя данной секты. «Живой Будда» – общепринятый титул предводителя посттрадиционных сект, причем этот последний считался действительным воплощением мессии именно как физическое лицо; а его святость должна была иметь наглядное выражение в творимых им чудесах.
Сектантские религии имели свое представление о верховном начале мира, отождествлявшемся с «пустотой», «беспредельным», «прежним небом». Его олицетворением чаще всего выступала так называемая Нерожденная Праматерь (Ушэн лаому) – верховное божество новых религий. Последняя, согласно популярной версии сектантской мифологии, повелела первочеловеку Паньгу сотворить мир и тем самым установила всеобщий Путь (дао) мироздания. Как правило, сектантские вожди проповедовали скорое или уже состоявшееся наступление новой мировой эры. Человечество в мифологии новых религий имеет статус 96 (или 96 млн.) «изначальных сыновей» Нерожденной праматери, посланных ею на землю для устроения цивилизации. На земле эти божественные посланцы впали в грех, но благодаря беспредельной любви Праматери мира к ее детям они будут спасены и вернутся в рай, который в одних сектантских традициях именуется «облачным городом», в других — «родной деревней».
Синкретические религии переняли от официальных «трех учений» почти все их существенные черты: из конфуцианства — этические нормы и правила этикета, включая культ предков и прочие бытовые обряды; из даосизма – космологические теории и методы психосоматического совершенствования; из буддизма – доктрину «совершенного прозрения», медитативную практику, культ сострадающих бодхисатв и многое другое. Очевидна также преемственность и в канонических текстах, и в принципах организации.. Не будет преувеличением сказать, что синкретические религии в Китае стали наиболее доступной для социальных низов формой усвоения и реализации в повседневной жизни религиозных ценностей. Тот факт, что приобщение простонародья к традиционным ценностям институциональных религий Китая проходило большей частью в формах альтернативных и оппозиционных существующей власти и ее идеологии, лишний раз напоминает о сложности строения китайской цивилизации на позднем этапе ее истории и в особенности — о разрыве между культурой официальной и элитарной, с одной стороны, и культурой простонародной или локальной — с другой. Не менее серьезным новшеством является начавшееся раздвоение самой социальности на официальную и оппозиционную, альтернативную, своего рода контр-социальность. Общественная история Китая двух-трех последних столетий есть едва ли не в первую очередь история перемещения границы между этими двумя видами социальности.
По той же причине правительственная политика в отношении новых религий отличалась непоследовательностью и порождала немало недоуменных вопросов. Если вслед за официальными идеологами считать эти религии грубым суеверием и обманом, как можно объяснить факт их популярности в народе? Неужели люди в массе своей столь глупы и темны, что не в состоянии отличить разумное мнение от явного вздора? Если вожди сект – коварные обманщики, лишь прикрывающиеся показным благочестием, то как доказать, что их благочестие есть на самом деле опасный соблазн? (Эта проблема хорошо знакома тоталитарным режимам современности.) Наконец, если сектанты совершают уголовные преступления и политически неблагонадежны, то почему их пороки и проступки нужно считать выражением или следствием их религиозной веры, формально благочестивой? Ответы на эти вопросы требуют специального исследования.
(Продолжение следует)

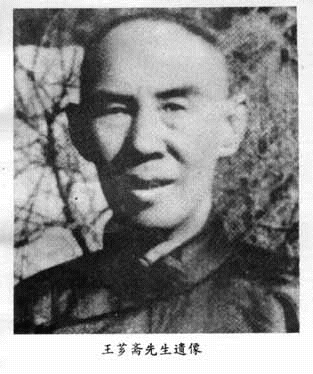



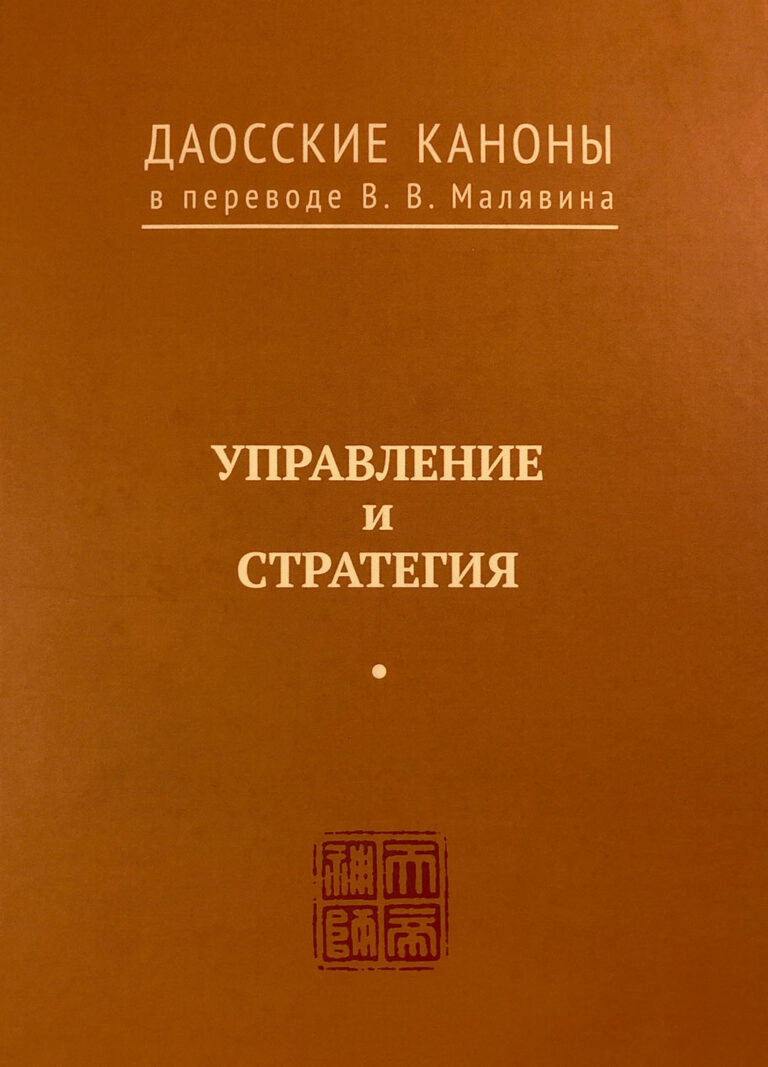

Конечно, интересно!Книга будет интересна в том случае, если читатель прочитанное станет примерять к себе : » А я какой?» 🙂
Конечно, интересно!Книга будет интересна в том случае, если читатель прочитанное станет примерять к себе : » А я какой?» 🙂
Конечно, интересно!Книга будет интересна в том случае, если читатель прочитанное станет примерять к себе : » А я какой?» 🙂
Конечно, интересно!Книга будет интересна в том случае, если читатель прочитанное станет примерять к себе : » А я какой?» 🙂
Гуцуляк О.Б. Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины // Вісник Дніпропетовського університету. – 2013. – Т.21, №9/2. – Серія Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 23 (4). – С.150-158.
http://www.proza.ru/2014/06/12/169
Гуцуляк О.Б. Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины // Вісник Дніпропетовського університету. – 2013. – Т.21, №9/2. – Серія Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 23 (4). – С.150-158.
http://www.proza.ru/2014/06/12/169
Гуцуляк О.Б. Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины // Вісник Дніпропетовського університету. – 2013. – Т.21, №9/2. – Серія Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 23 (4). – С.150-158.
http://www.proza.ru/2014/06/12/169
Гуцуляк О.Б. Использование даосизма в китайском варианте коммунистической доктрины // Вісник Дніпропетовського університету. – 2013. – Т.21, №9/2. – Серія Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 23 (4). – С.150-158.
http://www.proza.ru/2014/06/12/169